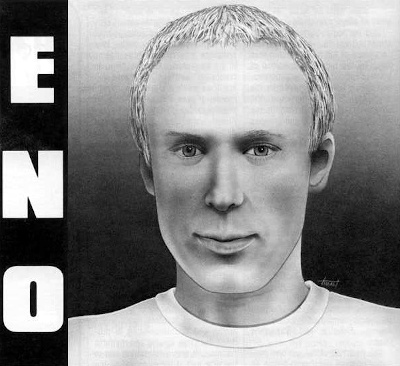 Synapse получил больше запросов на публикацию интервью с Брайаном Ино, чем с любым другим артистом. Это легко понять, если учесть, что он работал с Дэвидом Боуи, Джоном Кейджем, Roxy Music, Робертом Фриппом, Cluster, 801 Live, Devo, Talking Heads, Nico, Джоном Кейлом, Кевином Эйерсом, Майком Олдфилдом и другими. Какой личностью нужно быть, чтобы сотрудничать с таким разнообразием?
Synapse получил больше запросов на публикацию интервью с Брайаном Ино, чем с любым другим артистом. Это легко понять, если учесть, что он работал с Дэвидом Боуи, Джоном Кейджем, Roxy Music, Робертом Фриппом, Cluster, 801 Live, Devo, Talking Heads, Nico, Джоном Кейлом, Кевином Эйерсом, Майком Олдфилдом и другими. Какой личностью нужно быть, чтобы сотрудничать с таким разнообразием?
В своих различных проектах, записанных за последние пять лет с Дэвидом Боуи, Робертом Фриппом, Филом Манзанерой, Джоном Кейлом, Ultravox, Джоном Кейджем и, совсем недавно, Talking Heads и Devo, вы подняли искусство сотрудничества на совершенно новый уровень творческой деятельности. Какие особые качества вы ищете в потенциальном коллеге?
Иногда я думаю, что любое сотрудничество имеет смысл, потому что если оно не перспективно, то мне приходится работать ещё усерднее, чтобы получить от него то, что интересно лично мне. Так я работаю с партитурами к фильмам, если у меня есть время. Я согласен на любую партитуру, если только режиссёр не мерзавец, с которым я просто не в ладах. Я соглашаюсь на любую работу, независимо от того, что я думаю о фильме, потому что это повод сделать музыку. В каком-то смысле, если я не симпатизирую фильму, это даже интереснее, потому что у меня есть ограничения, которые обязательно подтолкнут меня к чему-то новому. Поэтому одна теория сотрудничества гласит, что я готов на всё. Другая теория сотрудничества гласит, что на самом деле есть люди, с которыми гораздо интереснее работать, чем с другими. Так что эти две вещи соперничают друг с другом.
Сотрудничество, которое мне нравится – на самом деле, те, которые вы упомянули, и особенно недавние два, которые у меня были с Talking Heads и Devo, возникают из чувства, что другая сторона сотрудничества обладает набором навыков, которые, в сочетании с моими навыками, создадут что-то новое.
Что было такого в первом альбоме Talking Heads, что заинтриговало вас настолько, что вы захотели спродюсировать их второй альбом?
Ну, во-первых, я нашёл этот материал очень, очень привлекательным, полным потенциала и, безусловно, демонстрирующим интеллект, который стоял за музыкой. И мне показалось, что вся эта музыка была продуктом очень активного мозга, который создавал музыку в некоем концептуальном ключе. Мне показалось, и это подтвердил последующий опыт, что эти люди ставили эксперименты. Они думали: «Что произойдёт, если мы сделаем вот это? А это? О, да. А что будет, если мы сейчас сделаем вот это?» И когда я впоследствии разговаривал с Дэвидом (Бирном), оказалось, что это действительно то, что они делают. Он говорит, что некоторые из их песен возникли на чисто интеллектуальной основе. И моя собственная работа возникла из подобных идей, из простого размышления. «Это может быть хорошей идеей. Как бы это звучало?», а не так, как люди думают, как песни пишутся. Люди думают, что вы сидите дома, у вас в голове мелодия и последовательность аккордов, а потом вы думаете: «А какие инструменты подойдут для этого?» Знаете, такая идея, когда у тебя есть цель, к которой ты потом идёшь. Я не думаю, что кто-то так работает, или работает, но очень редко. Иногда в начале есть мелодия или определённая ритмическая конфигурация, но в целом есть ощущение: «Ну, я собираюсь привести этот процесс в движение. Куда он меня приведёт? И более того, нравится ли мне то, куда он меня приведёт?» Потому что, если не нравится, вы бросаете это; вы начинаете снова.
Сколько времени вы даёте идее на проработку?
Это интересный вопрос, потому что это действительно зависит от уровня вашей уверенности в тот момент. Бывают дни, когда уровень моей уверенности настолько высок, что я могу заставить работать всё, что угодно, а бывают дни, когда это просто не сработает. Это действительно зависит исключительно от уверенности и энергии. Особенно, если вы работаете без группы, как я, вам действительно нужно много энергии, чтобы продвинуть что-то через те первые стадии, когда это просто ритм-бокс, который делает «бамп-титта», и пианино, которое делает «дум, дум, дум». Я имею в виду, что это звучит не очень интересно, поэтому поддержание убеждённости в том, чтобы продолжать, в надежде или в вере, что это превратится во что-то, требует много усилий. И в некоторые дни у меня этого просто нет.
У Talking Heads весь материал на альбоме был написан заранее, но некоторые из них были изменены в студии, и были изменены довольно сильно. Например, в некоторых фрагментах я говорил: «Так, смотрите, эта часть будет интересной. Я вижу; почему бы тебе не продлить её сейчас? Если она окажется неинтересной, мы можем легко отредактировать её снова. Но давайте сделаем её длиннее, посмотрим. Я просто чувствую, что здесь что-то произойдёт». И мы так и делали. В других случаях номер, который очень хорошо работал вживую, не получался в студии в таком виде. Тогда мы делали нарезку, вырезали фрагменты, редактировали вещь до более компактной формы. И на самом деле, я думаю, одно из различий между этой и последней пластинкой в том, что здесь есть настоящая лаконичность идей, и здесь очень высокий процент идей на минуту, гораздо выше, чем на других пластинках.
Вы больше использовали студию? Например, стало ли больше синтетической перкуссии?
На самом деле, синтетической перкуссии как таковой нет, но есть довольно много случаев, когда барабаны обрабатываются и, если хотите, «электронизируются». Потому что я был настроен так, что мой синтезатор был напрямую связан с пультом управления (микшерным пультом), так, что, когда они играли основные треки, я мог подключить любой инструмент – или все инструменты, если я хотел, но я никогда этого не делал – через мою систему и начать играть с этим звуком. И на некоторых треках это имело решающее значение. Это действительно придавало треку характер, который затем менял то, как они работали над ним. Так что в этом смысле было настоящее взаимодействие. Другие треки я оставлял в покое, потому что, насколько мне было известно, они уже довольно далеко продвинулись.
Какие синтезаторы вы используете в студии?
Если вы работаете в разных студиях, вы обнаружите, что у них у всех есть различные примочки, и я всегда нахожу гораздо более интересным столкнуться с их примочками, которые, возможно, не являются тем, что я бы выбрал, по сравнению с тем, что я вынужден носить постоянно с собой. Я не заинтересован в развитии техники, которая работает. Поэтому я ношу с собой только одну вещь, это маленький синтезатор, который помещается в чемодан, это очень идиосинкразическая машина. Он сделан компанией EMS, он у меня уже давно, и я никогда его не обслуживал, так что он довольно причудливый. Он довольно непредсказуем, и делает очень интересные вещи. Так что я беру его с собой, потому что он всё ещё удивляет меня.
Каким был ваш подход к Devo? Разве они не являются почти полной противоположностью такой группе, как Talking Heads?
Они – другая полярность по отношению к Talking Heads в одном континууме. Но в другом смысле они очень близки друг к другу. И это чувство – опять же, экспериментальное ощущение «Что будет, если…?» Я чувствую, что у них обоих есть некая интеллектуальная строгость в том, что они делают. Когда вы работаете над музыкальным произведением, вам постоянно предлагают лёгкие пути выхода, способы, которыми вы могли бы легко закончить его, просто убрать его с дороги. Натянуть струны, ну, знаете, что-то в этом роде. Это самый банальный подход к проблеме, но есть и более изощрённые лёгкие пути. Мне кажется, что обе эти группы, как правило, не используют их. Они обе имеют идею и расширяют её до предела, пока она не рухнет. Если она каким-то образом остается целой после довольно жёсткой атаки, которой они её подвергают, то это стоящая идея. Я вижу корни Talking Heads в основном в фанке и подобной музыке, к которой они добавили определённый слой; так что у вас всё ещё есть эта медленная ритмичная мелодия, но на вершине у вас есть эти ритм-гитары, которые очень, очень энергичные, точные и аккуратные. Эта конкретная смесь – нечто новое, я думаю. С Devo у вас есть что-то, что заставляет ваше тело двигаться по-новому. II действительно заставляет. Если вы слушаете музыку Devo, вы вдруг обнаруживаете, что делаете вот так (он двигается как робот). Это действительно… это оказывает на вас сковывающий эффект.
В их случае, похоже, это полноценный стиль жизни.
Да, на самом деле, все лучшие подходы – это стиль жизни. Это то, что вы обнаруживаете. С Devo, Talking Heads и со мной, все мы работаем с тем, какие мы есть; как мы живём, как мы ведём себя в обществе и так далее; что и является нашей политикой.
Говоря о политике, не оказал ли на вас сильное влияние Корнелиус Кардью, британский композитор-авангардист, ставший маоистом?
Да, я его поклонник, но не его последних работ. Моё личное мнение, что маоистская тема для него – очень большая ошибка, и она значительно ухудшила его музыку. Я думаю, что так происходит почти всегда, потому что, когда вы становитесь политиком, вы пытаетесь кодифицировать набор представлений в легко обрабатываемые куски, главным образом язык. И почти всегда самые интересные вещи, которые делает художник, не поддаются защите на этом уровне. Когда вы работаете, вы обнаруживаете, что внезапно оказываетесь в положении, когда вы разоблачены; вы не можете защитить то, что вы делаете. Вы просто должны сказать: «По какой-то причине это интересно мне, я не знаю почему. Может быть, через год я это узнаю». И обычно, спустя какое-то время, вы понимаете, почему это было интересно. Но в то время вы вышли за пределы территории, которую может охватить интеллект.
Обычно, когда люди становятся политически сознательными, как это сделал Кардью, они запрещают себе эту деятельность. Они говорят: «Работа художника заключается в радикализации общества», например, и спрашивают: «Как это сделать?» И тогда они начинают думать: «Ну, вы делаете это с помощью этого, этого и этого» – и внезапно музыка становится похожей на рекламу доктрины. Более того, доктрина почти всегда отстаёт от реальных последствий той музыки, которую они делали раньше.
Кардью – очень интересный пример. Он написал произведение под названием The Great Learning, которое состояло из семи отдельных частей, и одна из них – они называются Paragraphs – одна из них называется Paragraph 7, и для меня это действительно одно из самых интересных произведений современной музыки, когда-либо написанных. Она подходит для певцов с любой степенью подготовки. Я поставил несколько спектаклей, и я написал длинное эссе об этом произведении в журнале Studio International. Его партитура чрезвычайно проста, в ней нет нотаций и очень мало инструкций. Каким-то образом это произведение всегда звучит очень красиво и очень похоже от одного исполнения к другому. И я начал думать, как такое может быть? Он ничего не указал, и всё же произведение всегда выходит одинаковым – когда я говорю «одинаковым», я имею в виду, что общий эффект от него идентичен в каждом исполнении. Ограничений очень мало, его несложно сформировать. Можно почти сказать, что вы делаете то, что вам нравится, но это не совсем так. Я начал пытаться выяснить, почему это произведение работает так, как работает, потому что есть много других произведений современной музыки, которые пытаются сделать то же самое и терпят неудачу. Все они исполнены совершенно по-разному, и некоторые из них дерьмовые, и людям они не нравятся, и люди не получают удовольствия от их прослушивания. В этом произведении Кардью всё дело в том, что оно прекрасно исполнено и его приятно слушать. И я подумал: в чём дело? Как он сконструировал эту вещь так, что она регулирует себя таким образом? Потому что, по сути, именно это он и делает: существует целая система автоматических регуляторов, которые появляются во время исполнения этого произведения. Они не выбираются, они просто происходят. Например, здесь есть абзац из Конфуция, и этот абзац разделён, по-моему, на 18 строк. Некоторые из них состоят всего из одного слова, а некоторые из двух или трёх слов. Рядом с каждой строкой есть небольшая инструкция, которая гласит: «Пойте 8F3», например. Эта инструкция означает: спойте эту строку восемь раз; любые три из этих раз пойте громко. Вспомогательные инструкции гласят: «Пойте любую ноту, которую вы можете услышать». Это означает, что, когда вы переходите к новой строке, ваш выбор нот определяется доступными нотами в окружающей среде, нотами, которые поют другие люди. Поэтому вы выбираете ноту, которую можете услышать. Обычно их много, так что у вас очень широкий выбор. И ещё там сказано: «Пойте строчку каждый раз на длину вдоха». Так что если слово – просто «если», вы поёте «iiiiiiif», верно? Восемь раз, и три из них громко. Вот и все инструкции, и так или иначе, это произведение всегда звучит одинаково. Когда вы слышите три или четыре исполнения, вы начинаете недоумевать по этому поводу. Этому есть множество причин, и кибернетика и теория систем на самом деле являются механизмами, с помощью которых можно объяснить это произведение. Потому что оно имеет очень сильные параллели с высокими биологическими системами, которые, опять же, не управляются внешним контролем.
Как подобные системы сохраняют свою целостность, как они реагируют на вмешательство и как они поддерживают свою идентичность? На самом деле, все системы такого рода называются автопоэтическими, что означает, что они служат для поддержания своей собственной идентичности. В случае с произведением Кардью, просто возьмите инструкцию: «Пойте любую ноту, которую вы можете услышать». При таком указании может произойти несколько вещей. Во-первых, это произведение обычно исполняется с большим количеством людей, поэтому оно находится в большом пространстве. В любом большом пространстве всегда возникает акустический резонанс. Знаете, как в вашей ванной комнате одна нота, если вы поёте, звучит очень-очень громко? Это резонансная частота той комнаты. Теперь в любом большом пространстве будет резонансная частота, и, если у вас много поющих людей, вероятность того, что любая нота, попадающая на эту частоту, будет немного громче, чем все остальные ноты. Поэтому вероятность того, что, учитывая инструкцию: «Пойте любую ноту, которую вы можете услышать», шансы немного увеличиваются в пользу того, что вы споёте именно эту ноту. Итак, что происходит, когда эта пьеса начинается, она очень быстро затихает вокруг дрона, а дрон – это резонансная частота комнаты. Так что это одна вещь, которая происходит. Это не указано в партитуре. Возможно, Кардью даже не знал, что это произойдёт.
Вторая вещь, которая происходит, заключается в том, что, как правило, это делается с певцами всех различных типов навыков; это означает, что иногда у вас есть люди с глухим тембром. Когда они получают инструкции: «Спойте любую ноту, которую вы можете услышать», они стараются изо всех сил, но у них ничего не получается. Тогда они вводят в произведение новые ноты. Если бы все певцы были совершенны, произведение могло бы только уменьшиться в смысле количества нот, которые были бы доступны как логические. Все они заканчивали бы свои реплики в разное время. Итак, допустим, есть 20 певцов. Номер 19 заканчивает. У него есть выбор из 19 нот для пения, и он выбирает одну из них. Затем заканчивает номер 18; у него есть выбор только из 18 нот… их должно стать меньше. Но из-за того, что люди не всегда поют правильную ноту, или они иногда поют на октаву выше, или на пятую, или что-то в этом роде, или они подстраиваются под свой собственный регистр – опять же, появляются новые ноты. Таким образом, произведение имеет некий колеблющийся диапазон и количество нот.
Звучит как хоральные монтажные эффекты таких композиторов, как Пендерецкий и Лигети – хотя они, конечно, сочиняют с учётом своих эффектов.
Старый метод композиции именно таков – вы указываете результат, который хотите получить, а затем даёте ряд точных инструкций, как к нему прийти. Это похоже на любую старую социальную систему, где с помощью систем законов и ограничений вы пытаетесь задать поведение. Теперь пьеса Кардью, для меня, является радикальной вещью в социальном плане, потому что он не делает всего этого, и всё же это происходит. Поведение остаётся управляемым. Я думаю, что все политические системы делают то же самое, что и старые композиторы. Они все говорят: «Какое общество мы хотим?» Если дать наиболее широкую интерпретацию, они говорят именно это. Затем они говорят: «Хорошо, давайте ограничим это поведение здесь, давайте поощрим это здесь и бла-бла-бла». И все они пытаются заученно управлять очень сложной системой. Вам не нужно этого делать, вот в чём дело. Для меня пьеса Кардью доказала, что при правильных обстоятельствах вы можете настроить систему так, что она сама придёт к этому. На самом деле, у Стаффорда Бира, кибернетика, есть очень хорошее предложение в одной из его книг. Он говорит, что вместо того, чтобы пытаться определить все детали, вы определяете только некоторые детали; затем вы управляете динамикой системы в том направлении, в котором вы хотите двигаться. Существуют определённые органические регуляторы; вам не нужно их придумывать, вы просто должны позволить им действовать. Все современные политические системы, кажется, одержимы этой старой идеей, что задача правительства – сдерживать естественный ход событий. Теперь я вижу совершенно обратное – задача правительства состоит в том, чтобы использовать естественный ход событий. Например, если вы рассмотрите два способа получения энергии, то один из них заключается в том, что вы вырываете дыры в земле и вытаскиваете уголь, оставляя большой беспорядок и производя много дыма; а другой способ заключается в том, чтобы найти водопад и прикрепить к нему водяное колесо. Так что всё, что вы делаете, это, по сути, прерываете энтропийный процесс – вот он, он продолжается, он будет продолжаться. Вы ничего ни у кого не отняли. Всё, что вы сделали, это вмешались в процедуру, которая уже происходит, и что-то отключили.
Конечно, водяные колеса вряд ли являются решением наших энергетических проблем в национальном масштабе, не так ли?
Масштаб – это, конечно, самое большое соображение в этом вопросе. Я полагаю, что основная причина моего интереса к кибернетике заключается в том, что она имеет дело с такими очень сложными ситуациями. Кибернетика, согласно некоторым определениям, – это наука о сложных системах. Поэтому она имеет дело с системами, которые скорее вероятностны, чем детерминированы. Она говорит: «Это очень сложная система, всё, что мы знаем, это то, что она, скорее всего, даст такой-то класс результатов» – именно такой класс результатов, а не «этот конкретный». В этом смысле это неточная наука, и это первая настоящая неточная наука, которая действительно может что-то сделать. Насколько я понимаю, другие науки, такие как социология и психология, очень неточны и, похоже, не работают. В своей книге Embodiments of Mind, Брайан МакКаллох говорит очень интересную вещь. Он говорит, что в конце серии психологических сеансов психолог скажет: «Лечение закончено». И МакКаллох говорит: «На самом деле я никогда не слышал, чтобы кто-то из них сказал: «Пациент вылечился».
Дело в том, что мы не можем точно предсказать. Одна из центральных идей кибернетики заключается в том, что сама система неизбежно приведёт к определённому классу результатов. Это то, что она делает. Это в природе системы. И одним из главных результатов является то, что она продлевает своё собственное существование. Значит, действуют две вещи: во-первых, система стремится продлить своё существование, а во-вторых, система деградирует. Это происходит всегда, информация всегда уходит, мы стареем, процесс распада всегда в действии. Так что эти две вещи происходят. Опять же, большинство политических систем не признают этого. Они говорят: «Есть институт, который делает это, и когда требуется что-то другое, прилагаются огромные усилия, чтобы маневрировать этим институтом, чтобы сделать новое». Но этого не происходит. Природа систем такова, что они делают что-то одно, а не что-то другое. Структура системы управляет её поведением. Вот так всё просто. И если вы хотите изменить поведение, вы должны изменить структуру.
У нас есть огромная государственная служба, бюрократия, которая ещё не осознала этого, и которая в высшей степени автопоэтична. Я имею в виду, что большая часть её поведения – это попытка продлить собственную идентичность и произвести больше самой себя. Я не знаю, в какой стране это хуже всего. В Англии это, конечно, плохо.
Тогда можно ли изменить эти системы? Вы заинтересованы в том, чтобы попытаться изменить их?
Я не пропагандист и не евангелист, потому что я не думаю, что изменения происходят именно так. Я думаю, что серьёзные политические изменения всегда носят личный характер. Всё, что может произойти, это то, что вы можете случайно сказать что-то кому-то как раз в тот момент, когда он готов измениться. Это линия; вы можете быть тем человеком, который скажет им это. Чтобы перемены были реальными и осуществились должным образом, они должны достичь этой точки. Вы можете просто кристаллизовать это для них, вы можете закрепить это. Но для меня идея убедить кого-то не работает. Если необходимость перемен не находится внутри них, они не изменятся. Если потребности в переменах нет, значит, они не видят мир так же, как вы. И поэтому процедура знакомства с миром отличается от проповеди евангелия об этом, и это один из результатов, который невозможно предсказать. Они могут прийти с системой гораздо лучше вашей, на самом деле. Или совсем другой.
Для меня эта пьеса Кардью была радикальным уроком того, как может быть организовано маленькое общество – микрообщество – или как оно само себя организует. Каждый вклад был ценен. Вклад певца, исполняющего тональные партии, – система была построена так, чтобы использовать и это. Я действительно не знаю другого такого необычного музыкального произведения, как Paragraph 7 в этих смыслах. Это действительно уникальное произведение. Я только хотел бы, чтобы он продолжал делать больше таких произведений.
Как началось ваше сотрудничество с Боуи?
С ним происходило то, что происходит с каждым, – цепочка идей иссякала. Когда это происходит, вы можете легко продолжать, повторяя их, если хотите. Или же вы можете быть достаточно смелым, чтобы сказать: «Слушайте, они мне больше не подходят, я должен начать делать что-то новое». Теперь, для него, я думаю, это довольно рискованный поступок. Для меня – нет, потому что я вроде как настроил себя как человек, который занимается подобными вещами. Это почти ожидаемо. И я тщательно оберегал эту позицию, в некотором смысле сохраняя свою мобильность. Но я думаю, что происходили две вещи, во-первых, цепочка рабочих подходов для него заканчивалась, и он начинал чувствовать, что может появиться ещё один. Ему очень нравился «Другой зелёный мир». Он видел в нем подход, который ему нравился. Я думаю, что точно так же я слышал Station to Station и думал, что это отличный альбом. И я точно так же подумал: «В нём есть идеи, которые я собираюсь использовать». Так что сближение было вполне естественным. Взаимно интересно.
Значит, Боуи повлиял на вас определённым образом?
Да, повлиял.
Некоторые песни на Before & After Science, особенно на первой стороне, звучат гораздо более ударно, чем ваш обычный материал, в манере Young Americans и Station to Station Боуи.
Ну, у меня был маленький значок с надписью: «Присоединяйтесь к борьбе против фанка». Потому что в 1974 или 75 году я абсолютно презирал фанк-музыку. Я просто думал, что это всё, чего я не хотел в музыке. И вдруг я обнаружил, что занимаю совершенно противоположную позицию, и мне пришлось выбросить свой маленький значок, потому что это больше не было правдой. И я внезапно обнаружил, что, отчасти из-за того, что он делал, и ещё из-за одной или двух вещей – в основном из-за Parliament, Bootsy и тих людей – я вдруг понял, что если посмотреть на это чуть дальше, то это становится чем-то очень экстремальным и интересным. И Боуи сделал, это было похоже на «гранд фанк». Это было настолько преувеличено, что стало новой формой, это был не просто эпатажный глянец. И ещё он оставил все свои шероховатости. Он всегда так делает.
Учитывая, какой любопытный путь проделала ваша карьера. Интересно, на какой музыке вы выросли?
У меня был очень интересный выбор музыки. Я жил в маленьком городке в Саффолке, который находился в пяти милях от двух очень, очень больших. В городке было много кафе, где продавались как американские пластинки, так и английские, и даже совсем малоизвестные американские пластинки. Потом были магазины PX. Моя сестра была «янки-тусовщицей» в Саффолке; это означало, что она встречалась с одним или двумя американцами, что ужасно не нравилось местным жителям. Но это означало, что она также ходила в PX и возвращалась оттуда со всеми этими действительно очень интересными пластинками, которые вы никогда не слышали в Англии. Их никогда не крутили по радио. Так что я вырос на очень трансатлантическом музыкальном фоне, и я очень рано заинтересовался музыкой. У нас было пианино, одно из тех, на котором можно было крутить педали, и я его очень любил. Я играл на нём всё время. У нас были только старые гимны, такие как Jerusalem и так далее, которые я считал прекрасными. И я думаю, что меланхоличность этих песен – это то, что сохранилось во всём, что я делал с тех пор.
Дело в том, что я понятия не имел, что предшествовало всем этим американским вещам. Для меня это была просто загадочная музыка. Я слышал Chicken Necks Дона и Хуана или Get a Job от The Silhouettes и думал: «Это просто странная музыка». В Англии ничего подобного не было. Так что это было похоже на космическую музыку, и я обнаружил, что меня очень возбуждает такая странная музыка. Потому что вы должны помнить, что английская музыка в то время была очень скучной: Клифф Ричард, Томми Стил и… просто множество очень плохих подражаний крупным американским звёздам.
Другое дело, что у меня был дядя – на самом деле он не был дядей, он был просто человеком, которого мы называли дядей – и он очень любил джаз в биг-бэндах. Джек Тигарден и тому подобные вещи. Одно время ему негде было жить, и он вывалил на нас огромную кучу альбомов. Моим родителям они совсем не нравились, но я вставал рано утром и слушал эти записи, которые, опять же, были для меня совершенно загадочными. И я делал это бессознательно – я не думал. «Это музыка, которую я слушаю». Мне просто было интересно, по какой-то причине. Я не знал, откуда она взялась и что такое джаз.
Что впервые заинтересовало вас в музыке как искусстве?
В возрасте 11 лет. У меня был дядя – на этот раз настоящий дядя – эксцентричный глава семьи, очень приятный человек, и он провёл несколько лет в Индии. Поэтому у него были странные индийские представления о вещах. Он довольно эксцентричный, очень странный, всегда ставил дома странные эксперименты, создавал способы перегонки спиртного и тому подобное, приручал самых странных животных, например, грачей. Он был очень важен для меня, потому что он представлял другой мир, странную сторону жизни, и он был для меня как вся эта музыка. И я думал: «Откуда он взялся?», как сказали бы сейчас. Я регулярно навещал его, раз или два в неделю, и он говорил и знакомил меня с идеями. Однажды он показал мне маленькую книжку с репродукциями Пита Мондриана. И я подумал: «Боже, как они прекрасны». Это действительно были лучшие вещи, которые я когда-либо видел. И снова это было то же самое, что и с джазом, – внезапный прыжок, без малейшего представления о том, что предшествовало этому. До этого я не очень интересовался живописью. На самом деле, я не могу вспомнить, чтобы я смотрел на картины до этого, хотя я был так хорош в искусстве в школе. Что означало просто копировать вещи, на самом деле.
Но этот Пит Мондриан, я подумал: «Боже, это действительно интересно». И в тот момент, фактически, я решил: «Я буду художником, вот чем я буду заниматься». На свой следующий день рождения я получил набор масляных красок и начал рисовать.
Я также принял другое важное решение, что у меня никогда не будет работы, которое я принял немного раньше, чем в 11 лет. Потому что у моего отца была очень тяжёлая работа, и я мог видеть, что его жизнь полностью состояла из этой работы, и это, по сути, убивало его. Он просто приходил домой, падал в кресло и засыпал. Потом он вставал и снова шёл на работу. Он так уставал, что иногда не мог есть, и я подумал: «Я никогда этого не сделаю».
Так что с этими двойными идеями – я никогда не найду работу и буду художником – я наконец покинул гимназию, вооружённый для выхода во внешний мир. И по удивительному стечению обстоятельств я поступил в очень хорошую художественную школу. Она была очень хорошей ровно два года, потому что в течение этих двух лет группа чрезвычайно свободолюбивых преподавателей взяла эту художественную школу в свои руки и организовала её как своего рода экспериментальную учебную единицу. Это были действительно очень блестящие люди. Конечно, они были уволены по истечении двух лет, когда истёк срок их контрактов, потому что комитет по образованию был в ужасе, буквально, от всего, что там происходило.
Первый семестр был намеренным процессом дезориентации, о чём нам тогда не говорили. Были разработаны проекты, которые были чрезвычайно сложными. А мы все шли в художественную школу со своими маленькими коробочками красок, думая, что придём туда и начнём рисовать красивые картины. Ну, типичный проект, самый первый, который мы делали, был: «Обсудите визуально различия между водопроводным краном и венецианской шторой». И мы все посмотрели… что вы знаете? И это было самое простое. Остальные даже не включали создание картинок, они включали создание игр, методов тестирования поведения людей. Очень, очень интересные вещи. Я думаю, что у трёх человек были нервные срывы во время первого семестра, и они ушли, и ещё несколько человек ушли, потому что это было не то, на что они надеялись. Но те, кто остался, были очень преданы этой художественной школе. Она не была большой, в ней было всего сорок человек, может быть. По своей сути она была очень революционной. Они намеренно создавали ситуации, которые, как они знали, могли вызвать ожидания или предсказания того, что произойдёт дальше, а затем не позволяли этому случиться, меняя ситуацию. Весь первый семестр был основан на чём-то вроде «открой-свои-проблемы», «организуй-свои-взгляды», «не-обращайся-к-нам-за-ответами» – но в некотором смысле мы можем и помочь. Это совсем другое предложение по обучению.
Именно в художественной школе я начал думать о музыке и понял, что есть способ заниматься музыкой без технических навыков. Первой вещью был магнитофон. Художественная школа приобрела магнитофон, потому что они решили, что кто-то начнёт заниматься музыкой. И я очень быстро понял, что магнитофон превращает звук в пластическое искусство. В буквальном смысле. Нанося его на пластиковую ленту, он становится податливым средством. И вдруг вы можете пренебречь всеми правилами реального времени. Если вы хотите, вы можете сделать это в течение нескольких дней, смонтировать всё вместе и получить это в таком виде. Или вы можете растянуть его, или замедлить, или ускорить, или расширить, делая что-то с задействованными частотами. Вы можете удалить из него биты. Лента внезапно делает всю разницу. И как только я понял, что лента делает звук податливым, он стал чем-то, с чем можно обращаться, как с куском камня, если вы делаете скульптуру. Или, ещё лучше, с куском глины, или картиной, или чем угодно. Что-то, на чём можно что-то построить.
Это началось как почти дилетантское занятие, потом постепенно оно стало приобретать всё большее значение, потому что я начал понимать, что больше всего меня удивляет музыка, а не живопись. Там не было никаких инструментов; единственное, что там было, – это старое ненормальное пианино, которое я использовал. Но в основном я использовал свой голос в качестве источника, и я создавал слои фонетических, вокальных вещей. Не совсем пение, а просто голосовые шумы. Ещё одним из моих любимых источников звука был большой металлический абажур, и он издавал прекрасный гул! И записывая его на разных скоростях, я мог получать ноты. Это был довольно медленный процесс.
Я выступал с ними (кассетами) в художественной школе. Потому что ещё одна вещь, которой я тогда увлекался, – это фонетическая поэзия, которая была очень популярна в то время. Поэзия чисто звукового типа, Курт Швиттерс был одним из моих больших героев в то время.
Фрагмент Ur Sonata Швиттерса появляется в Kurt's Rejoinder на Before & after Science. Как это получилось?
Эта запись была сделана в 1930 году, я думаю. Это единственная существующая запись Швиттерса, насколько я знаю. Он мёртв. Это его голос, но он просто выхвачен из этой записи. Думаю, однажды кто-нибудь подаст на меня в суд за это, потому что на самом деле запись принадлежит BBC. Я думаю, когда-нибудь это всплывёт в суде. Я слушал радио, и там была программа о дадаистах, и у них был этот материал о Швиттерсе, и у них также был другой парень по имени Хаусманн, который мне раньше очень нравился, который был в похожем ключе, с гораздо более грубым голосом, чем Швиттерс. И на самом деле, этот трек начинался с Хаусманна, но Швиттерс вписался в трек.
Kurt Loder
1979 год
